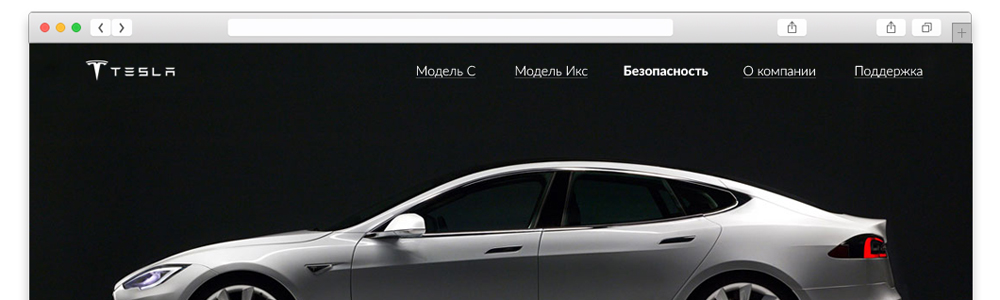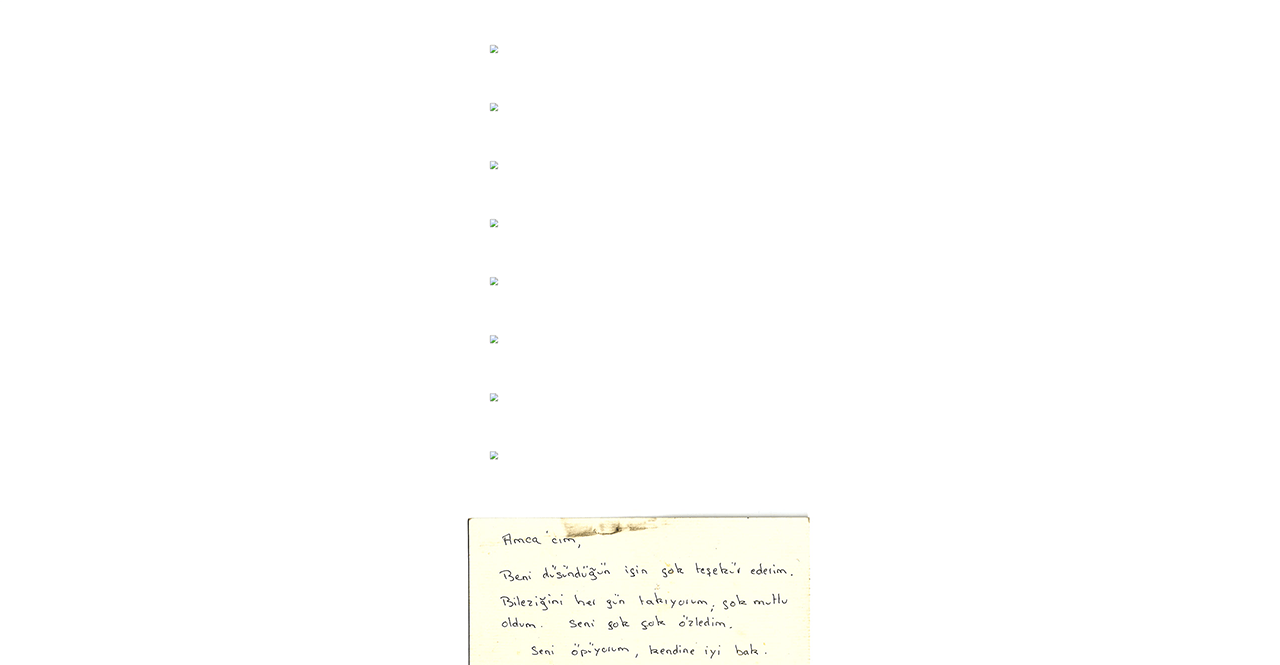Пару лет назад читал книгу Церена Церенова «Системное саморазвитие» и выполнял задания оттуда, в том числе писал в блог Школы системного менеджмента. Копирую один пост сюда.
Среди вопросов для повторения к первой главе есть такой: «Чем отличаются научные теории и ненаучные картины мира?». Ответ, который даёт учебник: научные выдерживают проверку научным методом.
Проверка научным методом в конечном счёте сводится к требованиям верифицируемости, воспроизводимости экспериментов и большей (по сравнению с ненаучными) предсказательной силе теорий.
Проблема в том, что этим критериям плохо соответствуют дисциплины, работающие с объектами идеального (нематериального) мира: сознанием, психикой, ценностями. Тем не менее, эти дисциплины или их практические приложения встроены в интеллект-стек и предлагаются для освоения. Например, в списке современных методологических трансдисциплин есть этика, а для развития собранности применяются методики, основанные на психологических теориях.
Этика занимается логическими выводами из ценностей, которые субъективны и иррациональны. И хотя логичность выводов можно проверить, непонятно, как здесь с эмпирической проверкой утверждений и предсказательной силой.
Психологические модели в большинстве случаев умозрительны (психоанализ, например), поэтому неверифицируемы. Нельзя вскрыть череп и увидеть там эго, воспоминания, сознание и подсознание. Многие знаменитые психологические эксперименты имеют большие проблемы с воспроизводимостью. Предсказательная способность практик психологии сравнима с эзотерическими и религиозными: что те, что другие помогают с некоторой вероятностью почувствовать себя лучше.
Хочется как-то расширить рамки, чтобы туда влезли нужные нам дисциплины.
Ориентироваться на мнение учёных полезно, но не всегда. Академическое сообщество — не монолит. Разные теории могут признаваться одними учеными и не признаваться другими. Существуют маргинальные теории, не признанные мейнстримом науки, но которые, тем не менее, лучше описывают объекты изучения, и, скорее всего, в будущем займут место мейнстримных. Есть дисциплины, которые сложно назвать науками, но тем не менее они ими считаются, преподаются в университетах, и по ним пишутся научные работы.
На научное сообщество так же как и на обычного человека влияет «социальное окружение» в виде текущей политической и культурной повестки. Учёные не совсем свободны в выборе объектов исследований: науку финансируют государства и бизнес, они способны влиять на тему исследования и на интерпретацию результатов.
Какое отношение к ковиду и вакцинации, глобальному потеплению или гендерным квотам является научным? И с той и с другой стороны есть научные публикации и мнения авторитетных учёных. Просто кого-то из них поддерживают правительства и научное сообщество, а кого-то — нет.
Определяя научность теории по тому, насколько полезны для жизни основанные на ней практики, мы смешиваем понятия «хороший» и «научный». Научная картина мира не обязательно хорошая, ненаучная — не обязательно плохая. В книге научное нигде прямо не приравнивается к хорошему (Апдейт: на самом деле приравнивается, просто на тот момент я ещё не дочитал до нужного места).
Остаётся сделать рамки нестрогими и интуитивными, основанным на «чувстве научности». Научные теории должны располагаться в воображаемом пространстве ближе друг к другу и дальше от ненаучных. Действительно, чаще всего научная дисциплина тесно связана со смежными дисциплинами: имеет с ними общие понятия и инструментарий, общие трансцисциплины (либо сама является трансдисциплиной). То есть научная теория должна быть более-менее встроена в тело науки, не быть совсем оторванной от неё.
Тогда утверждение, что научные теории выдерживают проверку научным методом, нужно воспринимать полуинтуитивно, считая, что оно лежит где-то в середине спектра формальности.